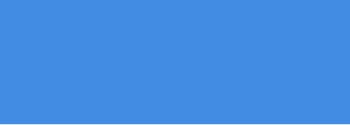Призрачный дом
Не знаю, есть ли в этой истории нечто мистическое или, быть может, моё воображение и впечатлительность играли со мной долгое время.
Бывают навязчивые идеи, а у меня был такой сон, много лет он преследовал меня. С периодичностью раз в два-три месяца мне снился Дом. Реальный, бабушкин, который остался в Керчи в далёком 1991 году. Сны эти были тревожащими, даже жутковатыми, потому что Дом превратился в заброшенный, разрушающийся под неумолимым действием времени и влаги, зияющий провалами, которых просто не могло быть, но всегда был живым и ... ждущим меня. И я каждый раз приходила к нему, с трудом открывала заржавевший замок, тянула на себя разбухшую от сырости непомерно тяжёлую дверь и вступала в спёртый сумрак, окатывающий волной удушающего запаха гнили и плесени...
Многие годы моя бабушка жила одна в Керчи, и мы с сестрой приезжали к ней на летние каникулы. Дом был выстроен сразу после войны: был он из ракушечника, одноэтажный, с черепичной крышей, с высокими потолками, деревянными полами, с двумя комнатами, кухней и кладовкой. Ни чердака, ни подвала. У нас была проведен водопровод, из крана текла отвратительная на вкус керченская вода (каждый раз я долго привыкала к ней, даже чай пить не могла), баллоны с газом, печное отопление и туалет на улице с выгребной ямой. Но тогда, в детстве, меня мало волновало отсутствие удобств, зато Дом мне казался большим. В окна с улицы стучали тоненькими пальчиками-веточками вишни, в комнатах всегда, даже в самое пекло, было прохладно и немного сумеречно.
На входную дверь мы вешали тюль от мух и комаров. Внутри и снаружи бабушка обновляла штукатурку белилами с синькой, шаркая мочальной кистью. Во дворе росла старая шелковица, сверху — шатёр из винограда, в котором было неимоверное количество пауков-крестовиков. В небе рассекали зной звонкие стрижи, и каждое утро заводила своё незатейливое «У-ууууууууууу-у» горлица. Пожалуй, отличие от типичных крымских дворов было только в том, что в нашем жили только две семьи, в то время как по соседству в халупах было по 5 и более, и за водой народ шастал на колонки.
Местные варили на керогазе компот из шелковицы и плов с мидиями, абрикосовое варенье. А детвора бегала на автобусную остановку, чтобы попить газированной воды с двойным сиропом за 5 копеек и купить у тёток «семачки» в газетных кулёчках: 10 коп. - маленький стакан, 20 коп. - большой.
Каждое лето в июне бабушка приезжала к нам в Калинин в отпуск, а потом вместе с внучками возвращалась в Керчь. Удивительно, но даже за месяц Дом приобретал немного запущенный вид: отсыревал, внутри всё покрывалось пылью, так что бабушка драила, сушила, проветривала несколько дней. Жаловалась она и на подтекающую крышу в углу большой комнаты: видать, черепица одна отвалилась. Но меня тогда это мало трогало — на улице ждала гурьба друзей, с которыми мы гульбанили с утра до вечера.
В феврале 91-го похудевшую до неузнаваемости бабушку мы забрали к себе, а в июне она умерла от рака. Дом родители продали за копейки, потому как Крым уже стал частью Украины и не было возможности туда ездить или торговаться. Мне было безумно жаль Дом, но моего мнения никто не спрашивал.
Его новыми хозяевами стала молодая пара — планов у них было много. Но не судьба: его убили, а она сошла с ума, попала в психбольницу, а потом и вовсе сгинула где-то. А Дом так и остался один.
Однажды, спустя несколько лет, я была проездом в Керчи, и конечно же, пошла посмотреть на наш Дом. Он по-прежнему выглядел крепким, на фасаде виднелись шрамы-рубцы от сбитой штукатурки. Я заглядывала в пыльные тёмные окна, но ничего не видела, только какие-то полутени полупредметов, расплывающиеся в сумрачной глубине комнат. Соседи куда-то ушли, калитка была заперта. Я лишь постояла немного и погладила на прощанье изрытую «оспинами» шереховатую стену...А потом начались эти сны.
Я открываю дверь и попадаю в царство плесени — она повсюду: разъела стол и стулья, изуродовала зелено-чёрными разводами и трещинами штукатурку, даже в гнилом воздухе я ощущаю её споры, которые втягиваю в себя с каждым вздохом. Я иду по угрожающе шатким и прогибающимся половицам. В комнате в потолке зияет огромная дыра в прохудившейся и обрушившейся крыше, я осторожно приближаюсь, запрокидываю голову вверх — там куда-то ввысь и во мрак уходят огромные почерневшие деревянные балки. Внизу пол сгнил от многолетних протеканий: из провала дохнуло заплесневелым холодом. Диван сочится сыростью. Пыльные створки шкафа со скрежетом под моим напором открываются: там на полках лежат пожелтевшие простыни, в пятнах от грибка, от прикосновения они рассыпаются в прах.
А то вдруг в Доме появляются новые и незнакомые комнаты, я иду по ним, выхватывая из темноты лучом фонаря то книжные полки, то старое развалившееся кресло, то ошмётки отслоившихся обоев, то пугающие и ведущие в неизвестность чёрные дверные проёмы. Мне страшно и жутко.
Но я понимаю, что Дом всё ещё жив и ждал меня, и не хочет мне зла. И мне негде ночевать и даже жить, а значит, придётся здесь остаться, даже рискуя быть погребённой под рухнувшими ветхими обломками. И я раскрываю окна и двери, впуская уличный жаркий воздух, я начинаю мыть, скоблить, просушивать, как когда-то делала бабушка. А дальше мысли, что надо что-то сделать с крышей и гнилым полом...
А потом сны внезапно прекратились, как отрезало. Столь странно! Через какое-то время я случайно узнала, что соседка снесла наш Дом.
Жалею только об одном сейчас: что не забрали бабушкины старые пластинки и ёлочные игрушки.